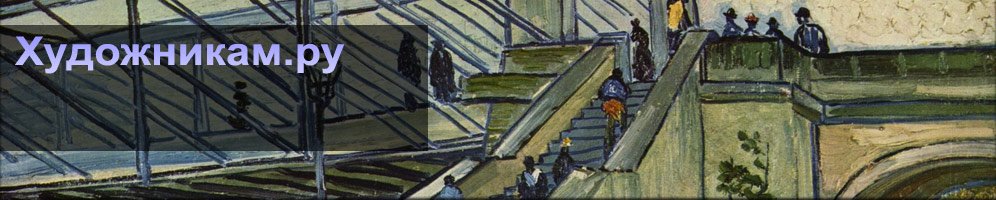Знамена славы. Глава двадцатая
Закружился в мастерской шустрый, остроглазый Василий Штернберг, друг Шевченко и Мокрицкого, привез во множестве рисунки — виды родной его Малороссии: ярмарки, свадьбы, шинки, переправы, табуны в полях. Карл Павлович листал альбомы, целовал Штернберга: по одной хатке, по этой двери шинка, по этим возам, балаганам, чумакам с дымящимися люльками под носом тотчас угадывается лицо и душа всей Малороссии. Собрать деньжонок, размышлял он вслух, вселяя радость и надежду в сердца учеников, купить хутор в этой прекрасной Малороссии, поселиться там в кругу юных друзей и воспитанников, жить просто, самим выполняя все работы на земле и по дому, а остальное время рисовать, совершенствоваться, на свободе готовить себя создавать великое.
«На свете счастья нет, но есть покой и воля»: золоченый гальберговский Пушкин неподвижно и внимательно смотрел на него со шкафа. Пушкина нет, Гальберга нет, счастья нет, покоя и воли тоже нет.
Приезжал Витали сговариваться относительно изготовления барельефов для дверей Исаакиевского собора. Карл вовсе решился было махнуть с ним в Москву — погостить, насовсем, какая разница! Лучше — насовсем. Сладко томили сердце воспоминания о московских вольных застольях — простая дружеская беседа, простая пища, гитара, песни, добрые, влюбленные женские глаза.
Но: приказано передать профессору господину Брюллову большую мастерскую в академическом дворе для завершения картины «Осада Пскова». От академического совета приказано благодарить профессора Брюллова за усердие, оказанное по образованию учеников. Неоконченные портреты таращатся на него со стен. И языческим божком торчит посреди стола зеленый квадратный «господин Штоф», Яненко ходуном вокруг ходит, и Кукольник Платон громко хлопает черными крыльями плаща. Глинка за фортепьяно сочиняет с Нестором романс, выкрикивает полушепотом: «Уймитесь, волнения страсти...» — а страсти не унимаются, и беспокойное сердце не засыпает...
Взамен семейного счастья — записочки от сводни: «Г-н Брюллов, уведомляю Вас, что у меня есть очень молоденькая и хорошенькая институтка, брюнетка, на Ваш весь вкус, если Вам угодно, то приезжайте ко мне в Семеновский полк во 2-ую роту... очень желала бы Вам угодить этой чернобровой институткой...» Печальный поэт Струговщиков читает ему из Гёте: «Я чувствую лишь тяжесть атмосферы...» Сорок лет, обозначенные для себя как предел, прожиты, все, что сверх них, — милость божья, и надо либо на Волково, либо понять смысл и цель этих сверх меры отпущенных годов.
Примчалась из дальних краев Юлия Самойлова — друг единственный, всегда кстати! В ту пору окончил свои дни граф Литта, муж ее бабки, — деньги к деньгам, громадное наследство отошло к Юлии. Литте было под восемьдесят, огромного роста и сложения богатырского, голос — труба архангела при втором пришествии (шутили современники); свалился нежданно, как дуб, с веками раздававшийся ввысь и вширь, не рассчитывая крепость стареющих корней. «Я чувствую себя свежим, толстым, колоссальным, — трубил самодовольно, — найдите другого человека, которому в мои годы не нужны очки. Я имею счастье считаться женихом, не придерживаюсь никакой диеты, ем, пью что мне нравится и во всякие часы». Перед смертью просил подать мороженого, съел сразу десять порций, похвалил повара: «Сальватор отличился на славу в последний раз».
Юлия примчалась в мастерскую, с порога рассчитала кухарку, нанятую Эмилией да так и зацепившуюся при Брюллове, приказала Лукьяну сжарить для нее с Карлом Павловичем сразу четыре ростбифа, конференц-секретарь прибежал знакомиться — не велела пускать, купила у Карла какую-то старую пустячную акварель, цену предложила бешеную, всю мастерскую перевернула вверх дном — и укатила на рассвете. На другой день появилась на придворном бале, вела себя, по общему суждению, неучтиво, ни мало с тем суждением не посчиталась и отправилась в свою Графскую Славянку, куда, к неудовольствию государя, тотчас потянулись следом ее друзья.
На огромном холсте — три с половиной аршина высотой — Карл начинает портрет: Юлия Самойлова с приемной дочерью Амацилией удаляется с бал-маскарада.

Тогда маскарады стали увлечением света. Накидывали легкие плащи, домино, прикрывали глаза черными шелковыми полумасочками, все узнавали друг друга — и делали вид, будто не узнают: в том и прелесть, что все будто бы, все понарошку. Будто бы прячутся, будто бы ищут, будто бы любят — в том пряная сладость игры. Государь, выделяясь ростом, могучей формой плеч и груди, прохаживается в толпе под руку с залетевшей в его столицу известной француженкой мадам Рондо (чем известной? — а вот так и говорили: известная француженка, и все!). Толпа государя обтекает, как река утес, но никто не смеет узнавать. Шелестя, повторяют француженки каламбур: «Петербургские маскарады напоминают железную дорогу — они сближают расстояния».
Александр Христофорович с сияющими в прорезях маски голубыми глазами склоняется к государю, с улыбкой на влажных губах шепчет что-то необыкновенно важное по поводу новой маски, появившейся в дверях зала. Государыня в сильно молодящем ее розовом плащике, по-девически оживленно жестикулируя, принимает ухаживания офицеров гвардии (не всех!), потом ей накрывают ужинать в отдельной комнате, она, не снимая маски, кладет в рот несколько виноградин и кусочек пирожного, гвардейцы вьются вокруг стола, развлекают «незнакомку» вольностями речи. За полночь зовут гостей смотреть представление про Гаруналь Рашида или Бобового короля: в программке против перечня волшебников, королей, принцесс, астрологов, фей, одалисок стоят имена российских вельмож, исполнителей ролей, и где-нибудь в самом конце списка, ниже всех гаруналь рашидов, чародеев, заморских гостей «Комендант — Государь Император Николай Павлович».
Красный взвившийся занавес очищающим пламенем отделяет, отрезает Юлию от кипящей позади шутовской карусели маскарада. От возвышающегося над однообразной пестротой фигур султана, от склонившегося к нему Меркурия, услужливого посла, указывающего жезлом на уходящую прочь красавицу. Юлия сорвала маску, прекрасное лицо ее открыто — не только от маски освобождено, но открыто всякому движению искренней, страстной души, на нем запечатленной. Она покидает этот мир масок, мир невсамделишных лиц и невсамделишных чувств, и, нежно прижимая к себе, торопится увести отсюда дочь, Амацилию. Совсем маленькой запечатлел ее некогда Брюллов во «Всаднице» на балконе — наивное дитя, девочку с душой доверчивой и доброй.
Критики твердят, что Брюллов-де не портреты пишет с людей — целые картины. Карл пишет Юлию, пылкую, всегда истинную, всегда единственную. Любя пишет — и кровь жгучим пламенем занавеса бьется в его жилах, опаляет ему щеки, пальцы, сердце. «Жена моя — художество! » — бормочет он свою присказку, замешивая краску на собственной горячей крови. Картину-портрет он назвал «Маскарад жизни».